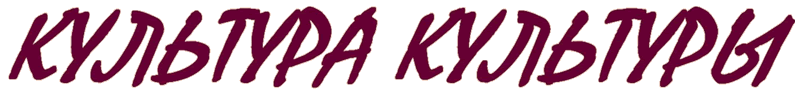НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
НАУЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
Научное рецензируемое периодическое электронное издание
Выходит с 2014 г.

Гипотезы:
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРЫ
А.Я. Флиер. Системная модель социальных функций культуры
Дискуссии:
В ПОИСКЕ СМЫСЛА ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (рубрика А.Я. Флиера)
А.В. Костина, А.Я. Флиер. Тернарная функциональная модель культуры (продолжение)
В.М. Розин. Особенности и конституирование музыкальной реальности
Н.А. Хренов. Русская культура рубежа XIX-XX вв.: гностический «ренессанс» в контексте символизма (продолжение)
Аналитика:
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
И.В. Кондаков. Кот как культурный герой: от Кота в сапогах – до Кота Шрёдингера
Н.А. Хренов. Спустя столетие: трагический опыт советской культуры (продолжение)
И.Э. Исакас. Гипотеза. Рождественская ёлка – символ второго пришествия Христа
ДУЭЛЬ
А.Я. Флиер. Неизбежна ли культура? (о границах социальной полезности культуры) (Философская антиутопия)
А.А. Пелипенко. Культура как неизбежность (о субъектном статусе культуры)